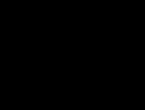VI. Формальное начало нравственности
Формальное начало нравственности. Понятия обязанности и категорического императива.
________
Эмпирическое материальное основание нравственного начала оказалось само по себе недостаточным, потому что, имея своим содер-
жанием одно из фактических свойств человеческой природы (сострадание иди симпатию), оно не может объяснить это свойство как всеобщий и необходимый
источник нормальных
действий и вместе с тем не может дать ему практической силы и преобладания над другими, противоположными свойствами. Правда, последнее требование, дать нравственному началу практическую силу и преобладание, может быть отклонено философским моралистом как находящееся вне средства философии вообще. Но первое требование, требование разумного оправдания или объяснения нравственного начала как такого, то есть как начала нормальных действий, необходимо должно быть исполнено этическим учением, так как в противном случае не видно, в чем бы могла состоять, вообще, задача такого учения.
Необходимо различать этику, как чисто эмпирическое познание, от этики как философского учения. Первая может довольствоваться классификацией нравственных фактов и указанием их материальных фактических оснований в человеческой природе. Такая этика составляет часть эмпирической антропологии или психологии, и не может иметь притязаний на какое-либо принципиальное значение. Такая же этика, которая выставляет известный нравственный принцип, неизбежно должна показать разумность этого принципа как такого.
Как мы видели, эмпирическая мораль во всех своих формах сводила нравственную деятельность человека к известным стремлениям или склонностям, составляющим фактическое свойство его природы, при чем в низших формах этой морали основное стремление, из которого выводились все практические действия, имело характер эгоистический, в высшей же и окончательной форме основное нравственное стремление определялось характером альтруизма или симпатии.
Но всякая деятельность, которая имеет своим основанием только известную природную склонность как такую, не может иметь собственно нравственного характера, то есть не может иметь значения нормальной или долженствующей быть деятельности. В самом деле, не говоря уже о тех низших выражениях эмпирической морали, которая, вообще, не в состоянии указать никакого постоянного и определенного различия между деятельностями нормальными и ненормальными, даже в высшем выражении эмпирической
этики, хотя такое различие и указывается, но нисколько не обосновывается.
Если человек действует нравственно лишь поскольку его действия определяются естественным стремлением ко благу других или симпатией, признавая в этой симпатии только естественную фактически данную склонность его природы, и ничего более, то в чем же заключается для него, я не говорю практическая обязательность, но теоретическое, объективное примущество такой деятельности предо всякою другою? Почему он не будет или не должен действовать в других случаях безнравственно или эгоистически, когда эгоизм есть такое же естественное свойство его природы, как и противоположное стремление, симпатия? Оба рода деятельности являются одинаково нормальными, поскольку оба одинаково имеют своим источником естественные свойства человека. А между тем на самом деде, когда мы действуем нравственно, мы не только от самих себя требуем всегда и везде действовать так, а не иначе, но предъявляем такое же требование и всем другим человеческим существам, совсем не спрашивая о тех или других свойствах их натуры; следовательно, мы приписываем нравственному началу как такому безусловную обязательность, независимо от того, имеем ли мы в данный момент в нашей природе эмпирические условия для действительного осуществления этого начала в себе или других.
Итак, формально нравственный характер деятельности, именно её нормальность, не может определяться тою или другою естественною склонностью, а должен состоять в чем-нибудь независимом от эмпирической природы.
Для того, чтоб известный род деятельности имел постоянное и внутреннее преимущество перед другими, он должен иметь признаки всеобщности и необходимости, независимо от каких бы то ни было случайных эмпирических данных. Другими словами: этот род деятельности должен быть безусловно обязателен для нашего сознания 31 .
___________________
31 Шопенгауэр восстает против повелительного наклонения в этике. Но это только вопрос о словах. Признавать (как это делает и Шопенгауэр) безусловное внутреннее преимущество нравственной деятельности перед безнравственною, любви пред эгоизмом, значит тем самым признавать объективную обязательность
Итак, нормальность действия определяется не прохождением его из того или другого эмпирического мотива, а исключительно его внутреннею обязательностью. Нравственное действие становится таковым лишь поскольку оно сознается как обязанность. Лишь чрез понятия обязанности нравственность перестает быть инстинктом и становится разумным убеждением.
Из сказанного ясно, что нравственный закон как такой, то есть как основание некоторой обязательности, должен иметь в себе абсолютную необходимость, то есть иметь значение безусловного для всех разумных существ, и, следовательно, основание его обязательности не может лежать ни в природе того или другого существа, например человека, ни в условиях внешнего мира, в которые эти существа поставлены; но это основание должно заключаться в априорных понятиях чистого разума, общего всем разумным существам. Всякое же другое предписание, основывающееся на началах одного опыта, может быть практическим правилом, но никогда не может иметь значение морального закона.
Если нравственное достоинство действия определяется понятием обязанности, то очевидно еще недостаточно, чтоб это действие было только согласно или сообразно обязанности, а необходимо, чтоб оно совершалось из обязанности, или из сознания долга, ибо действие согласное само по себе с обязанностью, но имеющее в действующем субъекте другой источник помимо обязанности, тем самым лишено нравственной цены 32 . Так, например, делать по возможности благодеяния есть обязанность, но помимо этого существуют такие, которые делают это по простой природной склонности. В этом случае их действия хотя и вызывают одобрение, но не имеют собственно нравственной цены. Ибо всякая склонность, как эмпирическое свойство, не имеет характера необходимости и постоянства, всегда может быть заменена другою склонностью и даже перейти в свое противоположное, а потому не может и служить осно-
___________________
первой, а затем, будет ли эта обязательность выражена в форме повеления или как-нибудь иначе, — это нисколько не изменяет сущности дела.
32 Разумеется, это утверждение может быть признано только с ограничениями. Об этом мы скажем далее; теперь же пока передаем основные идеи формальной этики, как они выражены наиболее последовательным и типичным её представителем, Кантом.
ванием всеобщего или объективного нравственного принципа. В нашем примере тот человек, который делает благодеяния по естественной склонности, может вследствие особенных личных обстоятельств, вследствие, например, больших огорчений и несчастий, которые ожесточат его характер и, наполняя его душу сознанием собственного страдания и заботами о себе, сделают его нечувствительным к страданиям и нуждам других, он может вследствие этих обстоятельств совершенно утратить свою склонность к состраданию. Но если, несмотря на это, он будет попрежнему делать добрые дела, но теперь уже безо всякой склонности, а исключительно из обязанности, тогда его действия получат подлинную нравственную цену. Более того, представим себе человека, хотя и честного, без особенных симпатических склонностей, холодного по темпераменту и действительно равнодушного к страданию других, не по грубости своей нравственной природы, а потому, может быть, что он сам переносит собственные страдания с терпением и стоическим равнодушием, такой человек, делая добро не по склонности, а по безусловной нравственной обязанности, будет его делать всегда и совершенно независимо от каких бы то ни было эмпирических условий; таким образом хотя природа и не создала его человеколюбцем, он в самом себе найдет источник гораздо большего нравственного достоинства, нежели каково достоинство доброго темперамента 33 .
Далее, действие, совершаемое из обязанности, имеет свое нравственное достоинство не в той цели, которая этим действием достигается, а в том правиле, которым это действие определяется, или точнее, которым определяется решимость на это действие. Следовательно, это нравственное достоинство не зависит от действительности предмета действия, но исключительно от принципа воли, по которому это действие совершается независимо от каких бы то ни было предметов естественного хотения 34 .
Воля находится в средине между своим априорным принципом, который формален, и своими эмпирическими мотивами, которые материальны. Она находится между ними как бы на распутье, и так как нравственная воля в этом качестве не может опре-
___________________
33 См . «Grundlegung zur Metaphysik der Sitten» von Immanuel Kant, 4. Auflage, Riga 1797, стр. 10, 11.
34 Kant, ibid., 13.
делаться материальными побуждениями, как не имеющими никакой нравственной цены, и однакоже ей необходимо чем-нибудь определяться, то очевидно ей не остается ничего более, как подчиняться формальному принципу 35 .
На основании сказанного понятие обязанности определяется так: обязанность есть необходимость действия из уважения к нравственному закону. В самом деле, так как словом «уважение» (Achtung) выражается наше отношение к чему-нибудь признаваемому за высшее, а нравственный закон, как безусловный и чисто-разумный, есть нечто высшее для человека, как ограниченного и чувственного существа, то и отношение наше к этому закону должно являться только в виде уважения. К предмету, как результату моего собственного действия, я могу иметь склонность, но не уважение, именно потому, что он есть только произведение, а не деятельность воли. Точно также не могу я иметь уважение к какой бы то ни было склонности, своей или чужой: я могу только в первом случае одобрять, а во втором иногда любить ее. Только то, что связано с моей волей, как основание, а не как действие, что не служит моей склонности, а преобладает над нею как высшее, что исключает ее при выборе, т. е. нравственный закон сам по себе, может быть предметом уважения и, следовательно, иметь обязательность.
Если таким образом действие из обязанности должно исключать влияние склонности, а с нею всякий предмета хотения, то для воли не остается ничего другого определяющего кроме закона со стороны объективной и чистого уважения к этому нравственному закону со стороны субъективной, т. е. правила 36 следовать такому
___________________
35 Kant, ibid., 14.
36 «Правило (Maxime) есть субъективный принцип хотения; объективный же принцип (т. е. то, что для всех разумных существ служило бы и субъективно практическим принципом, если бы только разум имел полную власть над хотением) есть практический (нравственный) закон» Другими словами, нравственный закон, который есть объективный принцип для воли разумного вещества как такого, может не быть субъективным правилом наших действий, поскольку мы уступаем физическим хотением и случайным желаниям, осуществление которых и ставим как правило своей деятельности. При нормальном состоянии нравственного существа, т. е. при господстве разума над низшими стремлениями,
закону, даже в противоречии со всеми моими склонностями. Итак, моральная цена действия заключается не в ожидаемом от него результате, а следовательно и не в каком-либо начале деятельности, которое имело бы своим побуждением этот ожидаемый результат, ибо все эти результаты, сводимые к собственному и чужому благу, могли бы быть достигнуты через действие других причин, помимо воли разумного существа, а в этой воле разумного существа заключается высшее и безусловное благо. Поэтому нравственное добро может состоять только в представлении самого нравственного закона, что может иметь место лишь в разумном существе, поскольку его воля определяется этим представлением, а не предполагаемым действием, и, следовательно, это благо присутствует уже в действующем лице, а не ожидается еще только как результат действия 37 .
Но какой же это закон, представление которого, даже помимо всяких ожидаемых результатов, должно определять собою волю для того, чтоб она могла быть признана безусловно доброю в нравственном смысле? Так как мы отняли у воли же эмпирические мотивы и все частные законы, основанные на этих мотивах, т. е. лишили волю всякого материального содержания, не остается ничего более, как безусловная закономерность действия вообще, которая одна должна служить принципом воли, то есть я должен всегда действовать так, чтобы я мог при этом желать такого порядка, в котором правило этой моей деятельности стало бы всеобщим законом. Здесь принципом воли служит одна закономерность вообще, без всякого определенного закона, ограниченного определенными действиями, и так это должно быть, если только обязанность не есть пустая мечта или химерическое понятие 38 .
Такой этический принцип взят не из опыта. Даже невозможно указать в опыте хотя бы один случай, в котором можно было бы с уверенностью утверждать, что правилом действия служил на самом деле этот принцип, а не какие-нибудь эмпирические побуждения. Но это обстоятельство, очевидно, нисколько не уменьшает значения нравственного принципа самого по себе, так как он дол-
___________________
объективный принцип практического разума есть вместе с тем и субъективное правило личной воли.
37 Kant, ibid., 14—16.
38 Kant, ibid., 17.
жен выражать не то, что бывает, а что должно быть. Ничего не может быть хуже для морали, как выводить ее из эмпирических примеров, ибо всякий такой пример должен сам быть сначала оценен по принципам нравственности для того, чтобы видеть, может ли он служить подлинным нравственным образцом, так что самое нравственное значение примера зависит от определенных уже нравственных начал, которые таким образом уже предполагаются этим примером и, следовательно, не могут из него быть выведены. Даже личность Богочеловека, прежде чем мы признаем ее за выражение нравственного идеала, должна быть сравнена с идеей нравственного совершенства. Сам Он говорит: «зачем называете вы меня благим, — никто не благ кроме одного Бога». Но откуда у нас понятие и о Боге, как высшем благе, если не из той идеи о нравственном совершенстве, которую разум составляет а priori и неразрывно связывает с понятием свободной или самозаконной воли 39 .
Из сказанного ясно, что все нравственные понятия совершенно априорны, т. е. имеют свое место и источник в разуме и при том в самом обыкновенном человеческом разуме не менее, чем в самом умозрительном, что, следовательно, они не могут быть отвлечены ни от какого эмпирического, и потому случайного познания; и что в этой чистоте их происхождения и заключается все их достоинство, благодаря которому они могут служить нам высшими практическими принципами 40 .
Все существующее в природе действует по её законам, но только разумное существо имеет способность действовать по представлению закона, т. е. по принципу, и эта-то способность называется собственно волей. Так как к выведению действий из законов необходим разум, то, следовательно, воля есть не что иное как практический разум.
Когда разум определяет волю непреложно, тогда действия такого существа, признаваемые объективно необходимыми, суть необходимы и субъективно; то есть воля в этом случае есть способность избирать только то, что разум признает независимо от склонности как практически (нравственно) необходимое или доброе. Если же разум сам по себе недостаточно определяет волю, если
___________________
39 Kant, ibid., 25-29.
40 Kant, ibid., 34.
эта последняя подчинена еще субъективным условиям (т. е. некоторым мотивам), которые не всегда согласуются с объективными, если, словом, воля не вполне сама по себе согласна с разумом (как мы это и видим в действительности у людей), в таком случае действия, признаваемые объективно, как необходимые, являются субъективно случайными, и определение такой воли сообразно объективным законам есть принуждение. То есть отношение объективных законов к не вполне доброй воле представляется как определение воли разумного существа, хотя и основаниями разума, но которым однако эта воля по своей природе не необходимо следует.
Представление объективного принципа, поскольку он принудителен для воли, называется повелением (разума), а формула повеления называется императивом. Все императивы выражаются некоторым долженствованием и показывают чрез это отношение объективных законов разума к такой воле, которая, по своему субъективному свойству, не определяется со внутреннею необходимостью этими законами, — и такое отношение есть принуждение. Эти императивы говорят, что сделать или от чего воздержаться было бы хорошо, но они говорят это такой воле, которая не всегда что-нибудь делает, потому что ей представляется, что делать это хорошо. Практически же хорошо то, что определяет волю посредством представления разума; следовательно, не из субъективных причин, а из объективных, то есть из таких оснований, которые имеют значение для всякого разумного существа, как такого.
Таким образом практически хорошее или практическое благо различается от приятного, которое имеет влияние на волю лишь посредством ощущения по чисто-субъективным причинам, имеющим значение только для того или другого, а не как разумный принцип, обязательный для всех.
Вполне добрая воля также находится под объективными законами блага, но не может быть представлена как принуждаемая этими законами к закономерным действиям, потому что она сама, по своему субъективному свойству, может определяться только представлением блага. Поэтому для божественной или вообще для святой воли не имеют значения никакие императивы; долженствование тут неуместно, так как воля уже сама по себе необходимо согласна с законом. Таким образом, императивы суть лишь· фор-
мулы, определяющие отношение объективного закона воли вообще к субъективному несовершенству в воле того или другого разумного существа, например человека.
Понятие императива вообще не имеет исключительно нравственного значения, а необходимо предполагается всякою практическою деятельностью. Императивы вообще повелевают или гипотетически (условно) или категорически (изъявительно). Первый представляет практическую необходимость некоторого возможного действия, как средства к достижению чего-нибудь другого, что является или может явиться желательным. Категорический же императив есть тот, который представляет некоторое действие как объективно необходимое само по себе без отношения к другой цели.
Гипотетический императив может указывать на средства или к какой-нибудь только возможной цели, или же к цели действительной; в первом случае он есть проблематический императив, а во втором случае — ассерторический. Что же касается категорического императива, который определяет действие как объективно-необходимое само по себе без всякого отношения к какому-нибудь другому намерению или цели, то он имеет всегда характер аподиктический 41 .
Все, что возможно для сил какого-либо разумного существа, может быть представлено как возможная цель некоторой воли, и потому существует бесконечное множество практических принципов, поскольку они представляются как необходимые для достижения той или другой возможной цели.
Все науки имеют практическую связь, состоящую из задач и из правил или императивов, указывающих, как может быть достигнуто разрешение этих задач. Такие императивы могут быть названы императивами уменья или ловкости. При этом вопрос не в том, разумна и хороша ли цель, а только в том, что нужно делать, чтоб её достигнуть; предписание для врача, как вернее вылечить человека, и предписание для составителя ядов, как вернее его умертвить, имеют с этой стороны одинаковую ценность, поскольку каждое служит для полнейшего достижения предположенной цели. Но есть такая цель, которая не проблематична, которая составляет не одну только из множества возможных целей,
___________________
41 Kant, ibid., 36—40.
а предполагается как действительно существующая для всех существ в силу естественной необходимости, — эта цель есть счастье.
Гипотетический императив, который представляет практическую необходимость действия как средства к достижению этой, всегда действительной цели, имеет характер ассерторический. Так как выбор лучшего средства к достижению наибольшего благосостояния или счастья определяется благоразумием или практическим умом (Klugheit), то этот императив может быть назван императивом благоразумия; он все-таки гипотетичен, то есть имеет только условное или относительное, хотя совершенно действительное значение, потому что предписываемое им действие предписывается не ради себя самого, а лишь как средство для другой цели, именно счастья.
Наконец, как сказано, есть третьего рода императив, который прямо и непосредственно предписывает известный образ деятельности безо всякого отношения к какой бы то ни было другой предполагаемой цели. Этот императив есть категорический и, по своей безусловной, внутренней необходимости, имеет характер аподиктический. Так как он относится не к материалу и внешним предметам действия и не к результатам действия, а к собственной форме и к принципу, из которого следует действие, и существенно-доброе в предписываемом им действии должно состоять в известном настроении воли, каков бы ни был результат её действия, то этот императив есть собственно нравственный. Существенному различию этих трех императивов соответствует неравенство в степени их разрушительной силы для воли.
Первого рода императивы суть только технические правила уменья; второго рода суть прагматические указания благоразумия; и только третьего рода императивы суть настоящие законы или повеления нравственности.
Технические правила относятся только к возможным целям, по произволу выбираемым, и следовательно, не имеют никакой обязательной силы.
Указания благоразумия хотя относятся к действительной и необходимой цели, но так как само содержание этой цели, именно счастье, не имеет всеобщего и безусловного характера, а определяется субъективными и эмпирическими условиями, то и предписа-
ния к достижению этих субъективных целей могут иметь характер только советов и указаний.
Только категорический или нравственный императив, не определяемый никакими внешними условиями и никакими внешними предметами, имеет, таким образом, характер внутренней безусловной необходимости, может иметь собственную внутреннюю обязательность для воли, т. е. в качестве нравственного закона служит основанием обязанностей 42 .
__________
___________________
42 См. Kant, ibid., 41-44
Страница сгенерирована за 0.17 секунд!
Теория Дарвина о происхождении нравственного чувства у человека.- Зачатки нравственных чувств у животных.- Происхождение чувства долга у человека,- Взаимная помощь как источник зарождения этических чувств у человека.- Общительность в мире животных.- Общение дикарей с животными.- Зарождение понятия справедливости у первобытных племен.
Работа, выполненная Дарвином, не ограничилась областью одной биологии. Уже в 1837 году, когда он только что набросал общий очерк своей теории происхождения видов, он писал в записной книге: «Моя теория приведет к новой философии». Так и вышло в действительности. Внеся идею развития в изучение органической жизни, он этим открыл новую эру в философии, а написанный им позднее очерк развития нравственного чувства в человеке открыл новую главу в науке о нравственности .
В этом очерке Дарвин представил в новом свете истинное происхождение нравственного чувства и поставил весь вопрос на такую научную почву, что, хотя его воззрения и могут быть рассматриваемы как дальнейшее развитие воззрений Шефтсбери и Хатчесона, тем не менее следует признать, что он открыл для науки о нравственном начале новый путь в направлении, кратко указанном Бэконом. Он стал, таким образом, одним из основателей этических школ наравне с Юмом, Гоббсом и Кантом.
Основную мысль Дарвиновой этики можно изложить в немногих словах. Он сам очень точно определил ее в первых же строках своего очерка. Начал он с восхваления чувства долга, описывая его хорошо известными поэтическими словами: «Долг - чудная мысль, действующая на нас не ласковым подходом, не жалостью, не какою-либо угрозою...» и т. д. И это чувство долга, т. е. нравственную совесть, он объяснил «исключительно с точки зрения естествознания»,- объяснение, прибавлял он, которого до сих пор ни один английский писатель не попытался дать .
В сущности, на такое объяснение уже был намек у Бэкона.
Допустить, что нравственное чувство приобретается каждым человеком в отдельности за время его жизни, Дарвин, конечно, считал «по меньшей мере неправдоподобным с общей точки зрения теории развития». Он объясняет происхождение нравственного чувства из чувств общительности, которые существуют инстинктивно или врождены у низших животных и, вероятно, также у человека. Истинную основу всех нравственных чувств Дарвин видел «в общественных инстинктах, в силу которых животное находит удовольствие в обществе сотоварищей,- в чувстве некоторой симпатии с ними и в выполнении по отношению к ним разных услуг».
При этом Дарвин понимал чувство симпатии (сочувствие) в его точном смысле: не в смысле соболезнования или «любви», а в смысле «чувства товарищества», «взаимной впечатлительности» - в том смысле, что на человека способны влиять чувства другого или других.
Высказав это первое положение, Дарвин указал далее на то, что во всяком виде животных, если в нем сильно разовьются умственные способности в такой же мере, как у человека,- непременно разовьется также общественный инстинкт. И неудовлетворение этого инстинкта неизбежно будет приводить индивидуума к чувству неудовлетворенности и даже страданий, если, рассуждая о своих поступках, индивидуум увидит, что в таком случае «постоянный», всегда присущий общественный инстинкт уступил у него каким-нибудь другим инстинктам, хотя и более сильным в эту минуту, но не постоянным и не оставляющим по себе очень сильного впечатления.
Таким образом, нравственное чувство Дарвин понимал вовсе не в виде мистического дара неизвестного и таинственного происхождения, каким оно представлялось Канту. «Любое животное,- писал Дарвин,- обладающее определенными общественными инстинктами, включая сюда родительские и сыновние привязанности, неизбежно приобретет нравственное чувство, или совесть (кантовское «знание долга»), как только его умственные способности будут в такой же степени развиты, как у человека» .
К этим двум основным положениям Дарвин прибавил два второстепенных.
Когда развивается разговорный язык, писал он, и является уже возможность выражать желания общества, тогда «общественное» мнение насчет того, как каждый член общества должен был бы поступить, естественно становится сильным и даже главным руководителем поступков. Но влияние одобрения поступков обществом или неодобрения всецело зависит от силы развития взаимной симпатии. Мы придаем значение мнениям других только потому, что находимся в симпатии (в содружестве) с ними; и общественное мнение влияет в нравственном направлении только в том случае, если достаточно сильно развит общественный инстинкт.
Правильность этого замечания очевидна; оно опровергает воззрение Мандевиля (автора «Басни о пчелах») и его более или менее открытых последователей XVIII века, которые пытались представлять нравственность как собрание условных обычаев.
Наконец, Дарвин упомянул также о привычке, как одной из деятельных сил в выработке нашего отношения к другим. Она усиливает общественный инстинкт и чувства взаимной симпатии, а также и повиновение суждениям общества.
Высказав сущность своих воззрений в этих четырех положениях, Дарвин затем развил их.
Он рассмотрел сперва общительность у животных, насколько они любят быть в обществе и как скверно они себя чувствуют в одиночестве: их постоянное общение между собою, их взаимные предостережения и взаимную поддержку на охоте и для самозащиты. «Нет сомнения,- говорил он,- что общительные животные чувствуют взаимную любовь, которой нет у взрослых необщительных животных». Они могут не особенно сочувствовать друг другу в удовольствиях, но вполне доказанные случаи взаимного сочувствия в беде совершенно обычны; и Дарвин привел несколько таких наиболее поразительных фактов. Некоторые из них, как, например, слепой пеликан, описанный Сэйнтсбюри, и слепая крыса, которых кормили их сородичи, стали их классическими примерами.
«При этом,- продолжал Дарвин,- кроме любви и симпатии мы знаем у животных другие качества, тоже связанные с общественными инстинктами, которые мы, люди, назвали бы нравственными качествами». И он привел несколько примеров нравственного чувства у собак и слонов .
Вообще понятно, что для всякого действия сообща (а у некоторых животных такие действия вполне обычны: вся жизнь состоит из таких действий) требуется наличность некоторого сдерживающего чувства. Впрочем, нужно сказать, что Дарвин не разработал вопроса об общественности у животных и о зачатках у них нравственных чувств в той мере, в какой это нужно было бы ввиду важного значения этих чувств в его теории нравственности.
Переходя затем к человеческой нравственности, Дарвин заметил, что, хотя у человека, каким он сложился теперь, имеется мало социальных инстинктов, он тем не менее представляет общительное существо, которое сохранило с очень отдаленных времен некоторого рода инстинктивную любовь и сочувствие к своим сородичам. Эти чувства действуют как полусознательно двигающие (импульсивные) инстинкты, которым помогают разум, опыт и желание одобрения со стороны других.
«Таким образом,- заключал он,- общественные инстинкты, которые человек должен был приобрести уже на очень первобытной ступени развития - вероятно, уже у своих обезьяноподобных предков,- еще и теперь служат причиной для некоторых его личных поступков». Остальное является результатом все более и более развивающегося разума и коллективного образования.
Очевидно, что эти взгляды Дарвина будут признаны правильными только теми, кто признает, что умственные способности животных отличаются от тех же способностей человека лишь степенью их развития, а не по существу. Но к такому заключению пришло теперь большинство тех, кто изучал сравнительную психологию человека и животных; попытки же, недавно сделанные некоторыми психологами в том направлении, чтобы отделить непроходимой пропастью инстинкты и умственные способности человека от инстинктов и умственных способностей животных, не достигли своей цели . Понятно, что из сходства инстинктов и ума человека и животных не следует, чтобы нравственные инстинкты, развитые в различных видах животных, а тем более в различных классах, были тождественны между собою. Сравнивая, например, насекомых с млекопитающими, никогда не следует забывать, что линии, по которым пошло развитие тех и других, разошлись уже в очень раннее время развития животного населения земного шара. В результате среди муравьев, пчел, ос и т. д. получилось глубокое физиологическое разделение в их строении и всей их жизни, между различными отделами того же вида (работники, трутни, матки), а с тем вместе и глубокое физиологическое разделение труда в их обществах (или, вернее, разделение труда и физиологическое разделение в строении). Такого разделения нет у млекопитающих. Вследствие чего едва ли возможно людям судить о «нравственности» рабочих пчел, когда они убивают самцов в своем улье. Потому-то приведенный Дарвином пример из жизни пчел и был встречен так враждебно в религиозном лагере. Общества пчел, ос и муравьев и общества млекопитающих так давно пошли своими собственными путями развития, что между ними во многом утратилось взаимное понимание. Такое же взаимонепони- мание, хотя и в меньшей мере, мы видим и между человеческими обществами на разных ступенях развития.
А между тем нравственные понятия человека и поступки насекомых, живущих обществами, имеют между собою столько общего, что величайшие нравственные учителя человечества не задумывались ставить в пример человеку некоторые черты из жизни муравьев и пчел. Мы, люди, не превосходим их в преданности каждого своей группе; а с другой стороны, не говоря уже о войнах или о случавшихся по временам поголовных истреблениях религиозных отщепенцев или политических противников, законы человеческой нравственности подвергались в течение веков глубочайшим изменениям и извращениям. Достаточно вспомнить о человеческих жертвах, приносившихся божествам, о заповеди «око за око» и «жизнь за жизнь» Ветхого завета, о пытках и казнях и т. д. и сравнить эту «нравственность» с уважением всего живущего, которое проповедовал Бодисатва, или с прощением всех обид, которое проповедовали первые христиане, чтобы понять, что нравственные начала подлежат такому же «развитию», а по временам и извращению, как и все остальное.
Мы вынуждены, таким образом, признать, что если различие между нравственными понятиями пчелы и человека является плодом расхождения физиологического, то поразительное сходство между теми и другими в других существенных чертах указывает нам на единство происхождения.
Дарвин пришел, таким образом, к заключению, что общественный инстинкт представляет общий источник, из которого развились все нравственные начала. И он попытался определить научным образом, что такое инстинкт?
К сожалению, научная психология животных еще очень слабо разработана. А потому крайне трудно еще разобраться в сложных отношениях между собственно общественным инстинктом и инстинктами родительскими, сыновними и братскими, а также между разными другими инстинктами и способностями, как-то: взаимной симпатией, с одной стороны, и рассуждением, опытом и подражанием - с другой . Дарвин вполне сознавал эту трудность, а потому выражался чрезвычайно осторожно. Родительские и сыновние инстинкты «по-видимому, лежат в основании инстинктов общительности»,- писал он; а в другом месте он выразился так: «Чувство удовольствия от нахождения в обществе, вероятно, представляет распространение родительских и сыновних привязанностей, так как инстинкт общительности, по-видимому, развивается долгим пребыванием детей со своими родителями» (с. 161).
Такая осторожность в выражениях вполне естественна, так как в других местах Дарвин указывает на то, что общественный инстинкт - особый инстинкт, отличный от других; естественный отбор способствовал его развитию ради него самого, вследствие его полезности для сохранения и благосостояния вида. Это такой основной инстинкт, что, если он входит в противоречие с другим таким могучим инстинктом, как привязанность родителей к своему потомству, он иногда берет верх. Так, например, птицы, когда наступает время их осеннего перелета, иногда покидают своих маленьких птенцов (вторых выводков), неспособных выдержать долгий перелет, чтобы присоединиться к своим товарищам (с. 164-165).
К этому очень важному факту я могу прибавить, что такой же инстинкт общительности сильно развит у многих низших животных, как, например, у сухопутного краба, а также у некоторых рыб, у которых проявление этого инстинкта трудно рассматривать как расширение родительского или сыновнего инстинкта. В этих случаях я скорее склонен видеть в нем распространение братских и сестринских отношений или же чувств товарищеских, которые, вероятно, развиваются во всех тех случаях, когда значительное количество молодняка, вылупившегося в известное время в данном месте (насекомых или даже птиц разных видов), продолжает жизнь сообща, с родителями или сами по себе. По всей вероятности, вернее было бы рассматривать общественные и родительские, а также и братские инстинкты как два тесно связанных инстинкта, причем первый, общественный, быть может, развился ранее второго, а потому и сильнее его, но оба развивались рядом друг с другом в эволюции животного мира. Развитию обоих помогал, конечно, естественный отбор, который поддерживал равновесие между ними, когда они противоречили один другому, и таким образом содействовал благу всего вида .
Самая важная часть в этике Дарвина - это, конечно, его объяснение нравственного сознания в человеке и его чувства долга и угрызений совести. В объяснении этих чувств больше всего сказывалась слабость всех этических теорий. Канту, как известно, в его вообще прекрасно написанном сочинении о нравственности совершенно не удалось доказать, почему следует повиноваться его категорическому императиву, если только он не представляет изъявления воли верховного существа. Мы можем вполне допустить, что «нравственный закон» Канта (если слегка изменить его формулировку, удерживая, однако, его сущность) представляет необходимое заключение человеческого разума. Мы, конечно, возражаем против метафизической формы, приданной Кантом своему закону, но в конце концов его сущность, которую Кант, к сожалению, не выразил,- не что иное, как справедливость , одинаковая справедливость для всех (equite, equity). И если перевести метафизический язык Канта на язык индуктивных наук, мы можем найти точки соглашения между его объяснением происхождения нравственного закона и объяснением естественных наук. Но это решает только половину задачи. Предположив (чтобы не затягивать спора), что кантовский «чистый разум» помимо всякого наблюдения, всякого чувства и инстинкта, уже в силу своих прирожденных качеств неизбежно приходит к закону справедливости, подобному «повелению» Канта; допуская даже, что никакое мыслящее существо никак не может прийти к другому заключению, ибо таковы прирожденные свойства разума,- допуская все это и вполне признавая возвышающий характер кантовской нравственной философии, все-таки остается нерешенным великий вопрос всякого учения о нравственности: «Почему должен человек повиноваться нравственному закону, или положению, утверждаемому его разумом», или, по крайней мере, «откуда это чувство обязательности, которое сознает человек?»
Некоторые критики кантовской философии нравственности уже указывали на то, что этот основной вопрос она оставила нерешенным. Но они могли бы прибавить, что он сам признал свою неспособность решить его. После того как он в продолжение четырех лет усиленно думал об этом вопросе и писал о нем, он признавал в своей почему-то вообще опускаемой из вида «Философской теории Веры» (часть 1, «О существенном недостатке человеческой природы»; напечатана в 1702 г.), что он так и не мог найти объяснения происхождения нравственного закона. В сущности, он отказался от решения всего этого вопроса, признавши «непостижимость этой способности - способности, указывающей на божественное происхождение». Сама эта непостижимость, писал он, должна поднять дух человека до энтузиазма и дать ему силу идти на всевозможные жертвы, которых потребует от него уважение к своему долгу» .
Такое решение, после четырехлетнего мышления, равносильно полному отказу философии от решения этой задачи и передачи ее в руки религии.
Интуитивная философия признала,таким образом,свою неспособность решить эту задачу. Посмотрим же, как решает ее Дарвин с точки зрения естествоиспытателя.
Вот, говорит он, человек, который уступил чувству самосохранения и не рискнул своею жизнью, чтобы спасти жизнь другого человека, или же, побуждаемый голодом, он украл что-нибудь. В обоих случаях он повиновался совершенно естественному инстинкту - отчего же он чувствует себя «не по себе». С какой стати он теперь думает, что ему следовало повиноваться какому-то другому инстинкту и поступить иначе.
Потому, отвечает Дарвин, что в человеческой природе наиболее «постоянно живучие общественные инстинкты берут верх над менее постоянно живучими» (the more enduring social instincts conquer the less persistent instincts).
Наша нравственная совесть, продолжает Дарвин, всегда имеет характер обзора прошлого; она говорит в нас, когда мы думаем о своих прошлых поступках; и она бывает результатом борьбы, в которой менее прочный, менее постоянный личный инстинкт уступает перед более постоянно присущим общественным инстинктом. У животных, всегда живущих обществами, «общественные инстинкты всегда налицо, они всегда действуют» (с. 171 русск(ого) перевода)).
Такие животные во всякую минуту готовы присоединиться для защиты группы и так или иначе идти друг другу на помощь. Они чувствуют себя несчастными, когда отделены от других. И то же самое с человеком. «Человек, у которого не было бы следа таких инстинктов, был бы уродом» (с. 162).
С другой стороны, желание утолить голод или дать волю своей
досаде, избежать опасности или присвоить себе что-нибудь, принадлежащее другому, по самой своей природе желание временное. Его удовлетворение всегда слабее самого желания ; и когда мы думаем о нем в прошлом, мы не можем возродить это желание с той силой, какую оно имело до своего удовлетворения. Вследствие этого, если человек, удовлетворяя такое желание, поступил наперекор своему общественному инстинкту и потом размышляет о своем поступке - а мы постоянно это делаем,- он неизбежно приходит к тому, что «станет сравнивать впечатления ранее пережитого голода, или удовлетворенного чувства мести, или опасности, избегнутой за счет другого, с почти постоянно присущим инстинктом симпатии и с тем, что он ранее знал о том, что другие признают похвальным или же заслуживающим порицания». И раз он сделает это сравнение, «он почувствует то же, что чувствует, когда что-нибудь помешает ему последовать присущему инстинкту или привычке; а это у всех животных вызывает неудовлетворенность и даже заставляет человека чувствовать себя несчастным».
После этого Дарвин показывает, как внушения этой совести, которая всегда «глядит на прошлое и служит руководителем для будущего», может принять у человека вид стыда, сожаления, раскаяния или даже жестокого упрека, если чувство подкрепляется размышлением о том, как поступок будет обсуждаться другими, к которым человек питает чувство симпатии... Понемногу привычка неизбежно будет все более усиливать власть совести над поступками и в то же время будет согласовывать все более и более желания и страсти личности с ее общественными симпатиями и инстинктами . Общее, главное затруднение для всякой философии нравственного чувства состоит в объяснении первых зародышей чувства долга - обязательности возникновения в уме человека понятия, идеи долга. Но раз это объяснение дано, накопление опыта в обществе и развитие коллективного разума объясняет все остальное.
Мы имеем, таким образом, у Дарвина первое объяснение чувства долга на естественнонаучном основании. Оно, правда, противоречит ходячим понятиям о природе животных и человека, но оно верно. Почти все писавшие до сих пор о нравственном начале исходили из совершенно недоказанной предпосылки, утверждая, что сильнейший из инстинктов человека, а тем более животных, есть инстинкт самосохранения, который, благодаря некоторой неточности их терминологии, они отождествляют с самоутверждением или собственно с эгоизмом. В этот инстинкт они включали, с одной стороны, такие основные побуждения, как самозащиту, самосохранение и даже удовлетворение голода, а с другой стороны, такие производные чувства, как страсть к преобладанию, жадность, злобу, желание мести и т. п. И этот ералаш, эту разношерстную смесь инстинктов и чувств у животных и у людей современной культуры они представляли в виде всепроникающей и всемогущей силы, не встречающей в природе животных и человека никакого противодействия, кроме некоторого чувства благоволения или жалости.
Понятно, что раз признано было, что такова природа человека и всех животных, тогда уже ничего более не оставалось, как настаивать на смягчающем влиянии учителей нравственности, взывающих к милосердию; причем дух своих учений они заимствуют из мира, лежащего вне природы, - вне и превыше мира, доступного нашим чувствам. И влияние своих учений они стараются усилить поддержкой сверхъестественных сил. Если же кто отказывался от таких взглядов, как, например, Гоббс, то ему оставалось только одно: придать особое значение карательному влиянию Государства, руководимого гениальными законодателями, что сводилось, в сущности, только к тому, что то же обладание «истиной» приписывалось не жрецу, а законодателю.
Начиная со средних веков, основатели этических школ, большей частью мало знакомые с Природою, изучению которой они предпочитали метафизику, представляли инстинкт самоутверждения личности как первое необходимое условие существования как животного, так и человека. Повиноваться его велениям считалось основным законом природы, не повиноваться - привело бы к полному поражению вида и, в конце концов, к его исчезновению. И вывод из этого был тот, что бороться с эгоистическими побуждениями человек мог, только призывая на помощь сверхприродные силы. Торжество нравственного начала представлялось поэтому как торжество человека над природою, которого он может достигнуть только с помощью извне, являющуюся вознаграждением за его добрые желания.
Нам говорили, например, что нет более высокой добродетели, нет более высокого торжества духовного над телесным, как самопожертвование для блага людей. На деле же самопожертвование для блага муравьиного гнезда или для безопасности стаи птиц, стада антилоп или общества обезьян есть факт зоологический, ежедневно повторяющийся в природе, для которого в сотнях и тысячах животных видов ничего другого не требуется, кроме естественно сложившейся взаимной симпатии между членами того же вида, постоянной практики взаимной помощи и сознания жизненной энергии в индивидууме.
Дарвин, знавший природу, имел смелость сказать, что из двух инстинктов - общественного и личного - общественный сильнее, настойчивее и более постоянно присущий инстинкт, чем второй.
И он был, безусловно, прав. Все натуралисты, изучавшие жизнь животных в природе, особенно на материках, еще слабо заселенных человеком, безусловно, были бы на его стороне. Инстинкт взаимной помощи действительно развит во всем животном мире, потому что естественный подбор поддерживает его и безжалостно истребляет те виды, в которых он почему-либо ослабевает. В великой борьбе за существование, ведущейся каждым животным видом против враждебных ему климатических условий, внешней обстановки жизни и естественных врагов, больших и малых, те виды имеют наибольшие шансы выжить, которые последовательнее держатся взаимной поддержки, тогда как те виды, которые этого не делают, вымирают. И то же самое мы видим в истории человечества.
Любопытно заметить, что, придавая такое значение общественному инстинкту, мы возвращаемся к тому, что уже понял великий основатель индуктивной науки Бэкон. В своем знаменитом сочинении «Instauratio Magna» («Великое возрождение наук») Бэкон писал: «Все существа имеют инстинкт (appetite) к двоякого рода благам: одни из них для самого существа, а другие - поскольку оно составляет часть какого-нибудь большого целого; и этот последний инстинкт более ценен и более силен, нем первый, так как он содействует сохранению более объемлющего. Первое может быть названо индивидуальным, или личным, благом, а второе - благом общины... И, таким образом, вообще бывает, что инстинктами управляет сохранение более объемлющего» .
В другом месте Бэкон возвращался к той же идее, говоря о «двух аппетитах (инстинктах) живых существ: 1) самосохранения и защиты и 2) размножения и распространения», причем он прибавлял: «Последний, будучи активным, по-видимому, сильнее и ценнее первого» . Возникает, конечно, вопрос: согласно ли такое представление о животном мире с теорией естественного отбора, в которой борьба за существование внутри самого вида считалась необходимым условием для появления новых видов и Эволюции, т. е. прогрессивного развития вообще.
Так как я подробно рассмотрел этот вопрос в труде «Взаимная помощь», то я не стану здесь снова разбирать его, а только добавлю следующее замечание: в первые годы после появления «Происхождения видов» Дарвина мы все были склонны думать, что острая борьба за средства существования между членами одного и того же вида была необходима, чтобы усилить изменчивость и вызвать появление новых разновидностей и видов. Наблюдение мною природы в Сибири, однако, зародило во мне первые сомнения в существовании такой острой борьбы внутри видов; оно показало, напротив, громадное значение взаимной поддержки во время переселений животных и вообще для сохранения вида. Затем, по мере того как биология глубже проникала в изучение живой природы и знакомилась с непосредственным влиянием среды, производящим изменения в определенном направлении - особенно в тех случаях, когда во время своих переселений одна часть вида бывает отрезана от остальных,- стало возможным понимать «борьбу за жизнь» в более широком и более глубоком смысле. Биологи вынуждены были признать, что группы животных часто действуют как одно целое и ведут борьбу с неблагоприятными условиями жизни или же с внешними врагами, какими бывают соседние виды, при помощи взаимной поддержки среди своих групп. В таком случае приобретаются навыки, уменьшающие внутреннюю борьбу за жизнь и в то же время ведущие к высшему развитию ума среди тех, кто практикует взаимную помощь. Природа полна таких примеров, причем в каждом классе животных на высшей ступени развития стоят именно наиболее общительные виды. Взаимная помощь внутри вида является, таким образом (как это вкратце высказал уже Кесслер), главным фактором, главным деятелем того, что можно назвать прогрессивным развитием.
Природа может поэтому быть названа первым учителем этики, нравственного начала для человека. Общественный инстинкт, прирожденный человеку, как и всем общественным животным,- вот источник всех этических понятий и всего последующего развития нравственности.
Исходная точка для всякого труда о теории нравственности, или этики, была указана Дарвином спустя триста лет после того, как первые попытки в этом направлении были сделаны Бэконом и отчасти Спинозой и Гете . Взяв общественный инстинкт за исходную точку для дальнейшего развития нравственных чувств, можно было, утвердив дальнейшими фактами это основание, строить на нем всю этику. Но такой работы до сих пор еще не было сделано.
Те из строителей теории развития, которые касались вопроса о нравственности по той или другой причине, шли по путям, принятым писателями по этике в до-дарвиновский и в до-ламарковский период, а не по тем, которые Дарвин наметил - может быть, слишком кратко - в «Происхождении человека».
Это замечание прилагается и к Герберту Спенсеру. Не вдаваясь здесь в обсуждение его Этики (это будет сделано в другом месте), замечу только, что свою философию нравственности Спенсер построил по другому плану. Этическая и социологическая части его «Синтетической философии» были написаны задолго до появления дарвиновского очерка о нравственном чувстве под влиянием отчасти Огюста Конта и отчасти бентамовского «утилитаризма» и сенсуалистов XVIII века.
Только в первых главах «Справедливости» (напечатанных в журнале «Nineteenth Century» в марте и апреле 1890 года) находим мы у Спенсера упоминание об «Этике Животных» и «под-чело- веческой справедливости», которым Дарвин придавал такое значение в развитии нравственного чувства у человека. Любопытно, что это упоминание ничем не было связано с остальною этикой Спенсера, так как он не считал первобытных людей общественными существами, общества которых были бы продолжением племен и обществ, обычных среди животных. Оставаясь верным Гоббсу, он рассматривал дикарей, как ничем не связанные сборища людей, чуждых друг другу, где происходят постоянные вражда и ссоры, причем эти сборища выходят из хаотического состояния только тогда, когда какой-нибудь выдающийся человек, взяв в свои руки власть, организует общественную жизнь.
Таким образом, глава о животной этике, прибавленная Спенсером позднее, является надстройкой в общей системе нравственной философии Спенсера, и он не объяснил, почему он счел нужным в этом пункте изменить свои прежние воззрения. Во всяком случае, нравственное чувство у человека не представляет у него дальнейшего развития чувств общительности, существовавших уже у предков человека. По его мнению, оно появилось в человеческих обществах гораздо позже и произошло из ограничений, наложенных на людей их политическими, общественными и религиозными руководителями (Данные Этики. § 45). Понятие о долге, как это говорил Бэн, после Гоббса является и у Спенсера как продукт принуждения (Coersion) со стороны временных начальников во время ранних периодов жизни людей или, вернее, как «воспоминание» о нем.
Это предположение, которое, к слову сказать, трудно было бы подтвердить теперь научным исследованием, кладет свой отпечаток на всю этику Спенсера. Для него история человечества делится на два периода: «военный», продолжающийся еще и до сих пор, и «промышленный», медленно нарождающийся в настоящее время; и оба требуют своей собственной особой нравственности. Во время боевого периода принуждение было более чем необходимо: без него прогресс был бы невозможен. На этой ступени развития человечества необходимо было также, чтобы личность приносилась в жертву обществу и чтобы ради этого выработался особый кодекс нравственности. Такая необходимость принуждения государством и пожертвования личностью должна будет продолжаться, покуда промышленный строй не возьмет вполне верх над боевым. Таким образом, Спенсер признает две разные этики, приспособленные к двум разным ступеням развития (§ 48-50), и это ведет его к ряду заключений, правильность которых обусловливается истинностью основного утверждения.
Учение о нравственных началах является, следовательно, исканием компромисса, соглашения между законами враждебности и законами дружелюбия - равенства и неравенства (§ 85). А так как из этого столкновения двух противоположных начал нет выхода, так как наступление промышленного строя возможно будет только тогда, когда закончится борьба между ним и военным строем, то пока возможно только внести в отношения людей между собою некоторую долю «благожелательности», которая может немного смягчить современный строй, основанный на индивидуалистических началах. Вследствие этого его попытка научно установить основные начала нравственности кончается неудачей, и в конце концов он приходит к совершенно неожиданному выводу, утверждая, что все теории нравственности, философские и религиозные, дополняют друг друга. В то время как мысль Дарвина была совершенно противоположна: Дарвин признавал, что источником, из которого берут начало все системы этики и все нравственные учения, включая и этическую часть различных религий, были общительность и сила общественного инстинкта, проявляющиеся уже в животном мире, а тем более у самых первобытных племен,- Спенсер, подобно Гекели, колеблется между теориями принуждения, утилитаризма и религии, не находя вне их источника нравственности.
В заключение следует прибавить, что, хотя понимание Спенсером борьбы между эгоизмом и альтруизмом очень сходно с отношением Конта к этому вопросу, тем не менее понимание общественного инстинкта философом-позитивистом, несмотря на то что он отрицал изменчивость видов, было ближе к пониманию Дарвина, чем понимание Спенсера. Обсуждая значение общественных и индивидуальных инстинктов, Конт, нисколько не колеблясь, признал преобладающее значение первых. Он даже видел в этом признании отличительную черту философии нравственности, порвавшей с теологией и метафизикой, но не развил этого утверждения до логического конца .
Как уже было сказано выше, никто из ближайших последователей Дарвина не попытался далее развить его этическую философию. Джордж Романэс, вероятно, составил бы исключение, так как он предполагал после своих исследований об уме животных перейти затем к вопросам этики у животных и к выяснению происхождения нравственного чувства. Для этой цели он уже собирал данные . К сожалению, мы лишились его, раньше чем он успел подвинуться в своей работе.
Что касается до других последователей теории развития, то они или пришли к выводам, совершенно отличным от взглядов Дарвина, как это случилось с Гекели в его лекции «Эволюция и Этика», или же, приняв за основание теорию развития, они работали в другом направлении. Такова нравственная философия Марка Гюйо , в которой разбираются высшие проявления нравственности без упоминания об этике в животном мире {{Работа профессора) Ллойда-Моргана. который недавно вполне переделал под новым заглавием (Animals Behaviour. L., 1900) свою прежнюю книгу обуме животных, еще не кончена, и о ней можно упомянуть только потому, что она обещает полный разбог этого вопроса, особенно с точки зрения сравнительной психологии. Др)гне раС-гь:, касающиеся того же вопроса или имеющие с ним соотношение, особенно превосходная книга Эспинаса «Les Societes Animales» , упомянуты мною в предисловии к книге «Взаимная помощь».}}. Я счел нужным поэтому снова разработать этот вопрос в книге «Взаимная помощь как фактор эволюции», в которой инстинкты и привычки взаимной поддержки рассмотрены как одно из начал и деятелей прогрессивного развития.
Теперь те же общественные привычки предстоит нам разобрать с двоякой точки зрения: унаследованных этических наклонностей и этических уроков, которые наши первобытные предки черпали из наблюдения природы. Я должен поэтому извиниться перед читателем в том, что вкратце упомяну о некоторых фактах, уже рассмотренных в моей работе о взаимной помощи, с целью показать их этическое значение.
Рассмотрев взаимопомощь как оружие вида в его борьбе за жизнь, т. е. «в том смысле, в каком она важна для естествоиспытателя», я вкратце укажу теперь, что она представляет как источник зарождения этических чувств у человека. С этой стороны она полна глубокого интереса для этической философии.
Первобытный человек жил в тесном сообществе с животными. С некоторыми из них он, по всей вероятности, делил свое жилье под навесами скал, в трещинах между скал, а иногда и в пещерах; очень часто он делил с ними и пищу. Не далее лет так полтораста назад туземцы Сибири и Америки удивляли наших натуралистов своим исчерпывающим знанием привычек жизни самых диких зверей и птиц; но первобытный человек стоял в еще более тесном общении с обитателями лесов и степей и знал их еще лучше. Массовое истребление жизни лесными и луговыми пожарами, отравленными стрелами и тому подобным тогда еще не начиналось; и по поразительному, невероятному обилию животных, которое встретили первые переселенцы в Америке, так прекрасно описанному первоклассными естествоиспытателями, как Одюбон, Азара и мн
Человек древнейшего и новейшего каменного века жил, стало быть, в тесном сообществе со своими немыми братьями - подобно тому как Беринг, вынужденный зимовать на одном из островов около полуострова Аляски, жил со своим экипажем среди бесчисленных стад полярных лисиц, бегавших среди людского табора, съедавших провизию и по ночам приходивших грызть даже шкуры, на которых спали люди.
Наши первобытные предки жили среди животных и с ними. И как только они начали вносить какой-нибудь порядок в свои наблюдения природы и передавать их своему потомству, животные и их жизнь и нравы давали главный материал для устной энциклопедии знаний и житейской мудрости, которая выражалась в виде поговорок и пословиц. Психология животных была первой психологией, изученной человеком, и до сих пор она составляет излюбленный предмет рассказов у костра в степях и лесах. Жизнь животных, тесно связанная с жизнью человека, была также предметом первых зачатков искусства; ею вдохновлялись первые граверы и скульпторы, и она входила в состав самых древних этических преданий и мифов о создании мира.
Теперь первое, что наши дети узнают из зоологии, это рассказы про хищников - львов и тигров. Но первое, что первобытные дикари должны были узнавать о природе, это было то, что она представляет громаднейшее сборище животных родов и племен: обезьянье племя, столь близкое к человеку, вечно рыщущее волчье племя, всезнающее, болтливое птичье племя, вечно работающее племя муравьев и т. д. Для них животные были продолжением, распространением их собственного племени, только они были гораздо более мудры, чем люди. Первым зачатком обобщения в природе - такого еще неопределенного, что оно едва отличалось от простого впечатления,- должно было быть то, что живое существо и его племя не отделены друг от друга. Мы можем их отделять, но они не могли. Сомнительно даже, чтобы они могли представлять жизнь иначе как среди рода или племени.
В ту пору неизбежно должно было сложиться именно такое представление о природе. Среди своих ближайших сородичей, обезьян, человек видел сотни видов , живших большими обществами, где все члены каждого общества были тесно соединены между собою. Он видел, как обезьяны поддерживают друг друга, когда идут на фуражировку, как осторожно они переходят с места на место, как они соединяются против общих врагов, как они оказывают друг другу мелкие услуги, вытаскивая, например, шипы и колючки, попавшие в шерсть товарища, как они тесно скучиваются в холодную погоду и т. д. Конечно, обезьяны часто ссорились между собой, но в их ссорах было, как и теперь бывает, больше шума, чем повреждений; а по временам, в минуты опасности, они проявляли поразительные чувства взаимной привязанности, не говоря уже о привязанности матерей к своим детям и старых самцов к своей группе. Общительность была, таким образом, отличительной чертой у всего племени обезьян; и если теперь есть два необщественных вида больших обезьян - горилла и орангутанг,- живущие лишь малыми семьями, то тот самый факт, что эти два вида занимают каждый очень малую территорию, показывает, что они - вымирающие виды, может быть, потому вымирающие, что человек вел против них ожесточенную войну, как против видов, слишком близких к человеку.
Другие живут небольшими семействами, и даже и из них наиболее умные, как львы и леопарды, собираются для охоты, подобно племенам собак . Что же до тех немногих, которые живут - теперь по крайней мере - совершенно порознь, как тигры, или небольшими семьями, то они держатся того же правила: не убивают друг друга. Даже теперь, когда уже более нет бесчисленных стад, некогда населявших луговые степи, тигры, вынужденные кормиться ручными стадами человека, живут поэтому поблизости от деревень - даже теперь мы знаем от крестьян в Индии, что тигры держатся каждый своего владения, не ведя между собой междоусобных войн. При этом оказывается весьма вероятным, что даже те немногие виды, в которых особи живут теперь в одиночку, как тигры, мелкие породы кошек (почти все они - ночные животные), медведи, семейство куниц, лисицы, ежи и некоторые другие,- даже эти виды не всегда вели одинокую жизнь. Для некоторых из них (лисицы, медведи) я нашел положительные свидетельства, что они оставались общественными, покуда не началось их истребление человеком, а иные и по сию пору живут обществами в незаселенных пустынях; так что мы имеем полное основание думать, что почти все они некогда жили обществами . Но если бы даже всегда существовало несколько необщительных видов, то мы можем положительно утверждать, что такие виды были исключением из общего правила.
Урок природы был, следовательно, тот, что даже самые сильные звери вынуждены жить сообща. Те же, кому хоть раз в жизни приходилось увидеть нападение, например, диких индийских собак на крупных сильных хищников, конечно, раз навсегда понимали силу родового союза и то доверие к своим силам и храбрости, которые союз внушает каждой особи.
В степях и лесах наши первобытные предки видели миллионы животных, собиравшихся в громадные общества - племена и роды. Бесчисленные стада косуль, полярных оленей, антилоп, громаднейшие стада буйволов и бесчисленные косяки диких лошадей, диких ослов, квагг, зебр и т. д. передвигались по беспредельным степям и сплошь да рядом паслись сообща, как еще недавно это видели путешественники в Средней Африке, где жирафы, газели и антилопы паслись бок о бок. Даже на сухих плоскогорьях Азии и Америки были стада лам или диких верблюдов, а в горах Тибета ютились сообща целые роды черных медведей. И когда человек ближе знакомился с жизнью этих животных, он скоро узнавал, как тесно соединены они между собой. Даже тогда, когда они, по- видимому, всецело были заняты кормлением и, казалось, не обращали никакого внимания на то, что делалось вокруг, они зорко наблюдали друг за другом, всегда готовые объединиться в каком- нибудь общем действии. Человек видел также, что во всем оленьем и козьем племени, пасутся ли они или развлекаются играми, у них всегда есть часовые, которые ни на минуту не дремлют и моментально подают сигнал при приближении опасного хищника. Он знал также, как в случае внезапного нападения самцы и самки смыкаются в круг, загнав вовнутрь его всю молодежь, и как они встречают врага лицом к лицу, подвергаясь опасности быть растерзанными, но спасая свое еще беззащитное потомство. Он знал, что той же тактики держатся стада животных при отступлении.
Первобытный человек знал все это - все то, чего не знаем мы и что мы так охотно забываем; и он рассказывал об этих подвигах животных в своих сказках, украшая смелость и самопожертвование их своею первобытной поэзией и подражая им в своих религиозных обрядах, неправильно называемых теперь «танцами».
Еще менее первобытный дикарь мог не знать о больших переселениях животных. Он даже следовал за ними, как теперь делают чукчи, которые перекочевывают вслед за стадами диких оленей, когда тучи комаров гонят их из одной части Чукотского полуострова в другую, или как лапландец следует за стадами полу- ручных оленей в их не от него зависящих кочевках. И если мы, с нашей книжной ученостью и незнанием природы, не можем объяснить себе, как это животные, разбросанные группами по громадной территории, ухитряются собраться тысячами в данном месте, чтобы переплыть реку (как я это видел на Амуре) или двинуться на север, юг или запад, то наши предки, считавшие животных более мудрыми, чем самих себя, нисколько не удивлялись таким соглашениям, как и теперь не удивляются им дикари. Для них все животные - звери, птицы и рыбы - находятся в постоянном общении между собой. Они предостерегают друг друга едва заметными знаками или звуками; они осведомляют друг друга обо всякого рода событиях и таким образом составляют одно громадное сообщество, имеющее свои обычаи учтивого обращения и доброго соседства. Даже до сего дня глубокие следы такого понимания жизни животных сохранились в сказках и пословицах всех народов.
От густонаселенных, оживленных и веселых поселений сурков, сусликов, тарбаганов и т. п. и из колоний бобров, которыми заселены были реки послеледникового периода, первобытный человек - сам еще бродячее существо - мог узнать выгоды оседлости, прочного жилья и работы сообща. Даже теперь мы видим (я видел это полстолетия тому назад в Забайкалье), что кочевые скотоводы, которых непредусмотрительность поразительна, узнают у тарбагана (Tamias striatus) пользу земледелия и запасливости, так как каждую осень они грабят его подземные склады и берут себе его запасы съедобных луковиц. Дарвин уже упоминает, как дикари в голодный год учились у обезьян-бабуинов, какие плоды каких деревьев и кустарников могут служить подспорьем в пище. Нет никакого сомнения, что амбары мелких грызунов с запасами всяких съедобных семян должны были подать человеку первую мысль о возделывании злаков. В сущности, священные книги Востока содержат немало упоминаний о запасливости и трудолюбии животных и ставят их в пример человеку.
Птицы, в свою очередь,- почти все виды птиц,- давали нашим отдаленным предкам уроки самой тесной общительности, ее радостей и предоставляемых ею громадных выгод. Большие сообщества уток, гусей и всяких других голенастых птиц дружным отпором для защиты своих детенышей и яиц постоянно учили этому человека. А осенью люди, сами жившие в лесах и по берегам лесных речек, конечно, могли наблюдать жизнь молодых выводков птиц, собирающихся осенью в большие стаи, которые, употребив малую часть дня на то, чтобы вместе покормиться, остальное время проводят в том, что щебечут и резвятся сообща . Кто знает, не из этих ли осенних сборищ зародилась сама мысль об осенних сборищах целых племен для племенной охоты сообща (аба у монголов, када у тунгусов), которые длятся месяц или два и являются праздниками для целого племени, скрепляя вместе с тем племенное родство и федеральные союзы.
Человек знал также об играх, которые так любят некоторые породы животных, их спорт, их концерты и танцы (см.: Взаимная помощь. Приложения), их групповые полеты по вечерам. Он был знаком с шумными митингами ласточек и других перелетных птиц, устраиваемых в наших местах осенью, из года в год на том же месте, перед тем как начать свои далекие перекочевки на юг. И как часто человек стоял в изумлении, видя невероятно громадные полчища перелетных птиц, проносившихся целые дни над его головою, или несчетные тысячи буйволов, или оленей, или сурков, которые преграждали ему путь и задерживали его иногда на несколько дней своими густыми колоннами, спешившими на север или на юг.
«Звероподобный дикарь» знал все эти красоты природы, забытые в наших городах и университетах; он знал эти красоты жизни, о которых нет даже упоминания в наших мертвых учебниках «естественной истории», в то время как отчеты наших великих исследователей природы - Одюбона, Гумбольдта, Азары, Брема, Север - цова и стольких других - покрываются плесенью в библиотеках.
В те времена великий мир текущих вод и озер также не был книгою за семью печатями для человека. Он хорошо был знаком с их обитателями. Даже теперь, например, полудикие жители Африки питают глубокое уважение к крокодилу. Они считают его близким сородичем человеку - даже чем-то вроде предка. В разговорах они избегают называть его по имени, а если нужно его упомянуть, называют крокодила «старым дедом» или каким-нибудь другим именем, выражающим родство и почтение. Крокодил, говорят они, поступает всегда, как они сами. Он никогда не проглотит своей пищи, не пригласив родных и друзей разделить ее с ним; и если какой-нибудь человек убьет крокодила не в силу законной родовой мести, то дикари думают, что родственники убитого крокодила непременно совершат родовое возмездие на ком-нибудь из того рода, к которому принадлежит убийца. Поэтому если крокодил съел негра, то сородичи съеденного негра употребят все старания, чтобы убить именно того крокодила, который съел их родственника, так как они боятся, что, убив невиновного крокодила, этим самым навлекут на себя месть сородичей убитого крокодила, которые в силу родовой мести должны будут отомстить за убийство их родственника. Вот почему негры, убив, по их мнению, виновного крокодила, тщательно рассматривают внутренности убитого животного с целью найти в желудке крокодила остатки их сородича и тем самым удостовериться, что они действительно не ошиблись и что именно этот крокодил подлежит смерти. Но если они не находят никаких следов виновности убитого, они совершают всякого рода покаянные деяния, чтобы извиниться перед родственниками убитого животного, и продолжают искать истинного виновника. Иначе сородичи убитого будут мстить их племени. Такие же поверья существуют и у краснокожих индейцев по отношению к гремучей змее и к волку, у остяков - по отношению к медведю и т. д. Значение же этих поверий для выработки позднейшего понятия о справедливости очевидно .
Стаи рыб, их передвижения в прозрачных водах и приблизительное исследование разведчиками, раньше чем вся стая двинется в известное место, должны были с ранних времен поражать ум человека. Следы такого впечатления мы находим по сию пору в народных рассказах дикарей во многих местах. Так, например, предание гласит о Дэканавидо, которому краснокожие индейцы приписывают создание их родовой организации, что сперва он удалился от людей, чтобы обдумать все на лоне природы. Он пришел на берега чистого, прозрачного потока, полного рыбами. Он сел, прислонясь к крутому берегу, и пристально глядел на воды, где рыбы играли «в полном согласии между собой... и здесь ему пришла в голову мысль разделить свой народ на роды и классы, или тотемы» . В других преданиях мудрый человек такого-то племени научается мудрости у бобра, у белки или у какой-нибудь птицы.
Вообще для первобытного человека звери - таинственные, загадочные существа, одаренные громадной осведомленностью в жизни природы. Они знают гораздо больше, чем говорят нам. Так или иначе, благодаря их чувствам, гораздо более утонченным, чем наши чувства, и благодаря тому, что они постоянно передают друг другу все то, что замечают в своих постоянных поисках и полетах, они знают то, что происходит на многие версты кругом. И если какой-либо человек не допускал в своих отношениях к ним хитрости и неправды, то они предупреждают его об опасности, так же как предупреждают друг друга. Но они не уделяют ему никакого внимания, если он был «неправдив» в своих поступках. Змеи и птицы (сова считается предводителем у змей), звери и насекомые, ящерицы и рыбы - все понимают друг друга и постоянно сообщают друг другу свои наблюдения. Они все принадлежат к своему братству, в которое иногда принимают человека.
Среди этого братства есть, конечно, более тесные братства существ «одной крови». Обезьяны, медведи, волки, слоны и носороги, большая часть жвачных, зайцы и большая часть грызунов, крокодилы и т. д. прекрасно знают свои роды и не допускают, чтобы кто-либо из их сородичей был убит человеком, без того, чтобы не совершить «честного» возмездия. Это понятие должно было сложиться в очень отдаленное время, тогда, когда человек еще не стал всеядным и не охотился за птицами и млекопитающими ради пищи. Всеядным же он стал, по всей вероятности, в течение Ледникового периода, когда растительность гибла от грозно надвинувшегося холода. Но удержалось это понятие до настоящего времени. Даже теперь дикарь, когда он охотится, обязан соблюдать известные правила по отношению к животным, и по окончании охоты он должен совершать известные искупительные церемонии. Некоторые из этих церемоний очень строго выполняются и теперь, особенно по отношению к животным, считающимся союзниками человека, например к медведю (среди амурских орочей).
Известно, что два человека, принадлежащие к двум разным родам, могут побрататься, смешав кровь обоих, полученную из легкой, нарочно для этого нанесенной раны. Вступать в побратимство было делом совершенно обычным в древние времена, и мы узнаем из сказок и преданий всех народов, и особенно из скандинавских саг, как свято соблюдался такой договор. Но такие же договоры были совершенно обычны между человеком и различными животными. Сказки постоянно говорят о них: животное, например, видя, что охотник готов убить его, просит этого не делать; охотник соглашается, и оба становятся братьями. И тогда обезьяна, медведь, косуля или птица, крокодил или даже пчела (любое из животных, живущих обществами) заботятся о человеке-брате в критические минуты его жизни, посылая своих братьев из своего рода или из других ему на помощь. И если предостережение пришло слишком поздно или неправильно было понято и человек погиб, все эти звери и зверьки стараются оживить его; и если это не удается, то они, по крайней мере, берут на себя родовую месть, как если бы он принадлежал к их собственному племени.
Во время путешествий по Сибири я часто замечал, как старательно тунгуз или монгол избегают попусту убить животное. Дело в том, что дикарь уважает всякую жизнь.Так было, во всяком случае, раньше, чем он пришел в соприкосновение с европейцами. Если он убивает животное, то делает это ради пищи или одежды, но он не истребляет жизни ради простой забавы или из страсти к разрушению. Правда, что именно так поступали краснокожие индейцы с буйволами, и это было уже после долгого соприкосновения с белыми и после того, как они получили от них винтовку и скорострельный револьвер. Конечно, и среди животных есть такие, которые считаются врагами человека,- гиены, например, или тигр, но в общем ко всему животному миру дикари относятся и приучают детей относиться с уважением.
Мысль о «справедливости», понимаемая вначале как возмездие, связана, таким образом, с наблюдениями над животными. Но весьма вероятно, что сама мысль о вознаграждении и возмездии за «справедливое» и «несправедливое» отношение возникла у первобытного человека из мысли, что животные мстят человеку, если он не должным образом отнесся к ним. Эта мысль так глубоко внедрена в умах дикарей по всему земному шару, что ее следует рассматривать как одно из основных понятий человечества. Мало- помалу это понятие выросло в представление о великом целом, связанном известными узами взаимной поддержки; оно - это великое целое - следит за всеми поступками всех живых существ и вследствие этой взаимности во всем мире оно берет на себя возмездие за дурные поступки.
Из этого понятия создалось представление об Эвменидах и о Мойре у греков, о Парках у римлян и о Карме у индусов. Греческая легенда об Ивиковых журавлях, связывающая в одно целое мир человека и птиц, и бесчисленные восточные легенды составляют поэтические воплощения того же представления. Позднее это распространилось и на небесные явления. Облака, судя по древнейшим духовным книгам Индии, т. е. Ведам, считались живыми существами, подобными животным.
Вот что видел в природе первобытный человек, вот чему он учился у нее. Мы с нашим схоластическим образованием, которое последовательно не желало знать природы и пыталось объяснять самые обыденные факты жизни либо суевериями, либо метафизическими тонкостями, мы начали забывать этот великий урок. Но для наших предков каменного века общительность и взаимная помощь внутри рода должны были считаться делом таким обычным в природе, таким всеобщим, что они даже не могли себе представить жизни в другом виде.
Представление о человеке как об одиноком существе - позднейший продукт цивилизации, продукт легенд, слагавшихся на Востоке среди людей, удалявшихся от общества; но чтобы развить это отвлеченное представление в человечестве, потребовались долгие века. Для первобытного же человека жизнь одинокого существа кажется столь странной, настолько необычной в природе, столь противной природе живых существ, что, когда он видит тигра, барсука или землеройку, ведущих одинокую жизнь, даже когда он видит дерево, выросшее одиноко поодаль от леса, он складывает легенду, предание, чтобы объяснить такое странное явление. Он не создает легенд, чтобы объяснить жизнь обществами, но непременно создает их, чтобы объяснить всякий случай одинокой жизни. В большинстве случаев, если отшельник не мудрец, на время удалившийся от мира, чтобы обдумать его судьбы, или не колдун, он является «изгоем», изгнанным животными из своей среды за какое-нибудь тяжелое нарушение нравов общежития. Он совершил что-то, настолько противное обычному укладу жизни, что его выкинули из среды своего общества. Очень часто он - колдун, властвующий над всякими злыми силами, и имеет какое-то отношение к трупам умерших, сеющим заразу. Вот почему он бродит по ночам, преследуя свои коварные цели под покровом тьмы.
Все остальные живые существа живут обществами, и мысль человека работает в этом направлении. Общественная жизнь, т. е. мы, а не я,- вот естественный строй жизни. Это сама жизнь. Поэтому «мы» должно было быть обычным складом мысли первобытного человека - «категорией» его ума, как мог бы сказать Кант.
В этом отождествлении, можно даже сказать - в этом растворении «я» в его роде и племени лежит зачаток всего этического мышления, всего мышления о нравственности. Самоутверждение «личности» пришло гораздо позже. Даже теперь в психике первобытных дикарей «личность», «индивидуум» почти не существует. В их умах главное место занимает род с его твердо установленными обычаями, предрассудками, повериями, запретами, привычками и интересами.
В этом постоянном отождествлении единицы с целым лежит происхождение всей этики; из него развились все последующие понятия о справедливости
Неспособность муравья, собаки или кошки сделать открытие или напастьна истинное разрешение какого-нибудь затруднения, на которую так часто указывают некоторые из писавших об этом предмете, вовсе не доказывает существенногоразличия между способностями человека и животных, так как точно такой же недостаток находчивости и изобретательности постоянно встречается и у человека.Подобно муравью в одном из опытов Леббока (John Lubbok) , тысячи людей,ранее не ознакомившихся с местами, точно так же пытаются перейти реку вброди гибнут при этих попытках раньше, чем перекинут через нее какой-нибудь первобытный мост, например в виде свалившегося дерева. Я знаю это из опыта, что тожеподтвердят все исследователи диких первобытных стран. С другой стороны, мывстречаем у животных коллективный разум муравьиного гнезда или пчелиногоулья. И если один муравей или одна пчела из тысячи нападает на верное решение,остальные подражают ему; и тогда они решают задачи гораздо более трудные, чемте. на которых так забавно осеклись муравей, пчела или кошка в (опытах) некоторых натуралистов и, смею сказать, сами натуралисты в постановке своих опытови заключениях. Пчелы на Парижской выставке и придуманная ими зашита отпостоянной помехи их работе, когда они узою залепили окошечко (см.: Взаимнаяпомощь. Гл. I), и любой из хорошо известных фактов изобретательности у пчел,муравьев, волков в их охотах вполне подтверждают вышесказанное. Кант. Сочинения. Издание Hartenstein’a. Т. 6. С. 143-144.
Нравственными началами права являются представления людей о добре и зле, справедливости и несправедливости, долге чести, достоинстве и охраняются силой общественного мнения и внутренним убеждением.
Мораль такая же динамическая регулятивная система, как и право. Ее исторический путь лежит от эквивалентных начал: око за око, зуб за зуб (и более крупно -«кровная месть» «мне отмщение и аз воздам» и т.д.) до начал неэквивалентных - «ударят по правой щеке, подставь левую», т.е. до начал терпимости (толерантности, как определяют эти начала) , прощения, покаяния, воздаяния за зло добром т.д.
В словаре русского языка мораль определяется как “правила нравственности и сама нравственность”, а нравственность в свою очередь как“правила, определяющие поведение; духовные и душевные качества, необходимые человеку в обществе, а также выполнение этих правил, поведение” См. Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М.,1987. - с.291,339.
Мораль и нравственность - одно и то же. В научной литературе и в практическом обиходе они употребляются как идентичные. Впрочем, некоторые аналитики пытаются установить здесь различия, предлагая под моралью понимать совокупность норм, а под нравственностью - степень их соблюдения, т.е. фактическое состояние, уровень морали. В данном случае мы исходим из тождественности этих понятий См. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. Курс лекций. - 2- е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ,2001. - с.292.
Мораль (лат. мoralis - нравственный; mores - нравы) - предмет изучения этики; общественный институт, выполняющий функцию регулирования поведения человека. Во всяком обществе действия громадного множества людей должны быть согласованны в совокупную массовую деятельность, при всем своем разнообразии подчинятся определенным общесоциальным законам. Функцию такого согласования и выполняет Мораль наряду с другими формами общественной дисциплины, тесно переплетаясь с ними и вместе с тем представляя собой нечто специфическое. Мораль регулирует поведение человека во всех без исключения сферах его общественной жизни - в труде и быту, в политике и науке, в семье и общественных местах, хотя и играет в них неодинаковую роль См. Словарь по этике /Под ред. Кона И. С. - 3-е изд. - М.: Полит.лит.,1975. - с.168-172.
Определение морали дает С.А. Комаров: «Мораль (нравственность) -
это взгляды, представления и правила, возникающие как непосредственное отражение условий общественной жизни в сознании людей в виде категорий справедливости и несправедливости, добра и зла, похвального и постыдного, поощряемого и порицаемого обществом, чести, совести, долга, достоинства и т.д.» См. Комаров С.А. Общая теория государства и права. Учебник. - 2-е изд., изм. и. доп. - М.: Юрайт,1998. - с.48
В современной философской литературе под моралью понимается нравственность, особая форма общественного сознания и вид общественных отношений; один из основных способов регуляции действий человека в обществе с помощью норм.
В то же время, и моральные установки внутри одной культурной традиции могут существенно различаться в разных ситуациях. Одним из наиболее ярких примеров такого варианта является библейская притча о человеке, готовом принести в жертву Богу своего единственного сына, согласно божественному повелению. Разумеется, убийство невинного ребенка является совершенно не соответствующим нормам христианской морали. Однако в случае, если этого хочет Бог, такой поступок для христианина перестает быть антиморальным (хотя остается личной трагедией), поскольку источником установлений, составляющих систему морали для христианина, является Бог, а значит, ни одно его повеление по определению не может быть не моральным.
Еще более изменчивыми являются моральные нормы и приоритеты, разделяемые различными субъектами, поскольку в этом случае дополнительным действующим фактором становятся также особенности психики и личный опыт каждого отдельного человека.
Критериями наших норм, оценок, убеждений выступают категории добра, зла, честности, благородства, порядочности, совести. С таких позиций даются моральная интерпретация и оценка всех общественных отношений, поступков и действий людей.
Современная наука о морали приходит к убеждению, что совокупность
переживаемых людьми моральных чувств и признаваемых ими моральных принципов не поддается сведению на единую верховную аксиому, из которой все они вытекали бы, как выводы из логической посылки.
Не существует никакого единого морального постулата, исходя из которого можно было бы развить логическую систему нравственности так, чтобы она охватывала все без исключения суждения, подводящие явления под категории "добра" и "зла", «нельзя распутать сложного и запутанного узора морального мира, найдя начало одной его нити, ибо узор этот образован из нескольких переплетающихся и взаимно перекрещивающихся нитей» См. Франк С.Л. Ницше и этика "любви к дальнему" //Франк С.Л. Сочинения. -М.,1990.- с.4. (G. Simmel. Einleilung in die Moralwissenschaft)
Задача науки о морали может заключаться только в том, чтобы отделить каждую из этих нитей от других и показать, каким образом они сплетаются в живую ткань моральной жизни.
Совокупность моральных идей и чувств может быть сведена, таким образом, только к ряду независимых друг от друга основных принципов. Каждый из последних служит внутренней основой целой массы явлений морали и дает начало особой замкнутой системе морали; но сами эти принципы друг от друга уже не зависят и потому не обосновывают один другого.
Наоборот, каждый из них в качестве моральной аксиомы вступает в коллизию со всеми остальными и ведет с ними борьбу за абсолютное верховенство в царстве морали. "Каждая из твоих добродетелей, - говорит Ницше своим образным языком, - жаждет высшего развития; она хочет всего твоего духа, чтобы он стал ее глашатаем, она хочет всей твоей силы в гневе, ненависти и любви; каждая добродетель ревнует тебя к другой" 1 См. Франк С.Л. Ницше и этика "любви к дальнему" //Франк С.Л. Сочинения. - М.,1990.- с.4. (Так говорил Заратустра, Ч.1, глава "О радостях и страстях". Nietzsche, VI, 52)
Исходом этой борьбы может быть полное и частичное вытеснение одним принципом всех других либо распределение между ними власти на отдельные компетенции каждого из них (так, например, в общественной жизни и в жизни личной господствуют совершенно различные и противоречащие друг другу нравственные принципы, так что то, что считается хорошим в первой, признается дурным во второй, и наоборот); возможно даже и отсутствие всякого исхода, вечная борьба моральных чувств в душе у человека, своего рода "Burgerkrieg in Perma-nenz" См. Франк С.Л. Ницше и этика "любви к дальнему" //Франк С.Л. Сочинения. -М.,1990.- с.5. (Постоянная гражданская война (нем.)
3 См. Персинг Р.М. Лайла. Исследование морали. - М.: Лавка Языков,2001. - с.149
Мораль не имеет объективной реальности. Можно смотреть в микроскоп, телескоп или осциллограф хоть всю жизнь и не узреть ни капли морали. Там её и нет. Всё это лишь в вашей голове. Она существует только лишь в нашем воображении.
С точки зрения субъектно - объектой науки мир представляет собой совершенно бесцельное пространство, не имеющее цены. Смысла нет ни в чем. Нет ничего верного и нет ничего неверного. Всё лишь функционирует, как механизм. Нет ничего морально неправильного в лености, во лжи, краже, самоубийстве, убийстве, геноциде. Ничего морально неправильного нет, ибо никакой морали не существует, есть лишь функции 3 .
Роли морали в жизни общества и отдельной личности многочисленны. Трудно объяснить, почему существует нравственность, зато ясно, для чего она существует. Если для прочих земных тварей образ жизни и судьба предписаны от природы, то человек - существо историческое - составляет свою судьбу сам. Для него нет раз и навсегда написанного закона. Что есть человек, никогда не может быть решено окончательно, ибо ни история, ни наша личная судьба еще не завершены.
Каждый час мы становимся другими, совершенствуемся по программе, которой еще нет, которую мы сами себе пишем. Дело не в том, чтобы придумать модель будущего и решить, как мы собираемся жить. Гораздо важнее решить, какими будем мы сами, что будет считаться человечным и подобающим человеку.
Каковы будут не только наши права, но и обязанности? Кем мы должны стать, чтобы в полной мере называться людьми? Человек всегда на пути этого поиска, такой истинно человеческий путь и есть мораль.
Суждение мудрецов о том, что человечество движется в направлении добра - это не иллюзия или благое пожелание, это сущность морали.
Мораль регулирует поведение, как отдельного лица, так и общества. Суть в том, что не одни люди контролируют жизнь других, а каждый сам строит свою позицию, ориентируясь по моральным ценностям.
Идет саморегуляция личности и саморегуляция социальной среды в целом.
Особенно ее значение раскрывается по методу "от противного": общественное единство нельзя создать ни принуждением, ни даже законом. Отсутствие нравственной перспективы губит самые прекрасные экономические планы. То же и для конкретного человека: жизнь бессмысленна без активного личного творения этого смысла; так же, как и правильный жизненный путь никто, тебе не укажет, пока ты не выберешь его сам.
Так что мораль сродни мюнхгаузеновскому вытаскиванию самого себя за волосы из обывательского болота. Здесь я сама предъявляю себе требования, и сама же их выполняю. Автономия нравственного сознания позволяет нам выбирать линию поведения самостоятельно, не ссылаясь ни на авторитет, ни на закон. В критических ситуациях нравственность оказывается единственной опорой человека. Как перед смертью - когда дела уже не сделать и тело не спасти - остается спасать свое достоинство. Самые слабые и ненавязчивые регулятивы на поверку оказываются самыми главными: они отступают даже перед смертью.
Подчинена функции регулирования поведения, точнее, оценочно-императивной функции. Мораль интересует знание не само по себе (как науку), а знание, преломленное в ценностях или освещающее условия морального выбора. Эта функция морали не тождественна научному познанию.
Она дает индивиду не просто знание объектов самих по себе, а ориентирует его в мире окружающих культурных ценностей, предопределяет предпочтения тех из них, которые отвечают его потребностям и интересам.
Моральное сознание видит мир через особую призму и фиксирует это видение в понятиях добра и зла, долга и ответственности. Это не объективно- научное исследование мира как он есть, это постижение не устройства, а смысла явлений. Для человека такое знание ничуть не менее важно. Главная его особенность - человекомерность. А если суть человека - в поиске своего пути в мире, то "нашего" мира еще нет, он еще должен появиться благодаря нашим усилиям. Потому на нас ложится ответственность за себя и за других.
Итак, мораль дает возможность постижения человеческой судьбы, но не в качестве закона, а в качестве регулятивной идеи, ориентируясь по которой, можно построить свою жизнь. Это - сверхзадача, это знание того, что с объективной точки зрения знать нельзя. Ведь жизнь еще не завершена, а мы умудряемся судить о ней, не имея полной и точной информации.
Достоверность наших суждений в морали обеспечена, как ни странно, их необъективностью.
Чтобы понять нравственный смысл происходящего, надо изначально нравственно к нему отнестись; чтобы познать нравственную сущность человека, надо его любить. Заинтересованный взгляд на мир и людей дает возможность оценить их перспективы, получить целостное представление о смысле их и своей жизни.
Мораль, как уже не раз повторялось, делает человека человеком. Потому-то нравственное воспитание всегда считалось основой всякого другого. Нравственность не столько приучает к соблюдению свода правил, сколько воспитывает саму способность руководствоваться идеальными нормами и "высшими" соображениями. При наличии такой способности к самоопределению человек может не только выбирать соответствующую линию поведения, но и постоянно развивать ее, т.е. самосовершенствоваться.
Все конкретные достоинства, которые мы находим у нравственно воспитанной личности, вытекают из фундаментальной ее способности поступать как должно, исходить из ценностных представлений, сохраняя при этом свою автономию.
То, что сегодня обычно называется "моралью", охватывает лишь один из этих наборов моральных кодексов, социально-биологический кодекс. В субъектно-объектной метафизике этот единственный социально-биологический кодекс считается незначительной, "субъективной", физически не существующей частью вселенной. По мере углубления в эти вопросы понятно, что разделение статичных моральных кодексов весьма важно.
Нравственная Деятельность.
Условия нравственных действий.
Библейское воззрение на природу человека
Согласно ясному библейскому учению человек есть двухсоставное существо; он есть единство, соединение души и тела, - двуединое, духовно-телесное, личное существо. По телу человек имеет общее с другими живыми существами. Тело человека “взято от земли” и потому по существу своему оно сродно всему земному; оно живет и развивается, подчиняясь законам земли (материального мира). По своей же душе человек есть “дыхание Божие,” образ и подобие Божие, образ и подобие своего Творца, высочайшего и всесовершеннейшего Личного Духа.
Душа и тело в человеке находятся в теснейшем единстве. Таким создан человек по Божественному промыслу для жизни и духовно-нравственного совершенствования в земных условиях (видимого мира). Как состоящий из души и тела, как духовно-телесный организм и свободная личность, человек есть связующее звено двух миров: мира невидимого, духовного, и мира видимого, материального. Тело человека является существенным восполнением его духовного начала - души. Вся духовная жизнь души в земных условиях находит свое выявление в теле. Всякая жизнедеятельность души совершается не сама по себе, не изолированно от материального мира, а только в теле и чрез тело (см. о значении тела и о достоинстве человека у проф. Олесницкого. Нравственное Богословие, §10 ).
Существенными признаками или качествами духовного начала в человеке - его духа или души являются: разум или самосознание, свобода воли и нравственное чувство (нравственный закон в душе) или совесть.
Самосознание
Будучи существенными качествами или свойствами души человека, самосознание, свобода и нравственное чувство являются и необходимыми условиями нравственной деятельности. Где нет этих условий, там не может быть и речи о нравственных или безнравственных поступках.
Лицо, способное и обязанное к нравственным действиям, должно быть в своем разуме, должно сознавать себя, настоящее свое положение и свои действия. Кто вне себя, не в своем уме и не сознает себя, того действия не могут считаться нравственными. К таким принадлежат слабоумные, расстроенные в уме, погруженные в сон. И действия животных, будут ли они полезные для людей и самих животных или вредные, мы назовем естественными, но не нравственными. Это потому, что животные действуют не по сознанию, а по инстинкту и не по свободному выбору, а по свойствам и законам своей природы.
Впрочем, сознание у человека должно быть не только такое, когда он отличает себя, как себя (как личность), но должно быть еще сознанием собственно нравственным, называемым самосознанием , - в котором человек сознает себя лицом, обязанным к целесообразной деятельности, к делам, за которые надо нести ответ (о самосознании - см. Иоанн, еп. Смоленский. Богословские академические чтения. Изд. 2-е. СПб. 1906 г., стр. 61 ).
Вот почему малые дети, еще не имеющие такого самосознания, во всем худом извиняются (и действия их еще не расцениваются как нравственные); у них нет сознания ответственности за свои поступки.
О христианском самосознании
Человек-христианин своим христианским званием обязывается иметь особое нравственное самосознание - самосознание христианское. Что оно должно быть в нем особое, видно из того, что в возрождении он стал иным - новым (“новой тварью,” вторично “родился” водою и духом), новым не мысленно, но делом, всем своим духовно-телесным существом. Поэтому он должен переродиться и в самосознании.
Что должно входить в состав этого самосознания, видно из того, каким он вошел в купель крещения или покаяния, и каким вышел из него, или чем стал в нем. Погибал - и вот избавлен; был в ранах - и исцелен; был отвержен - и принят в сыновство; своевольничал, - а теперь связал себя послушанием по обету.
Все это должно отзываться в его сердце и составлять в совокупности одно то, чем он чувствует себя во Христе Иисусе. Христианин пребывает в чувстве исцеления и свободы. Он должен сознавать себя “Христовым рабом,” работать и трудиться как бы от Его лица, пред Ним и ради Него. Все самосознание и вся жизнедеятельность христианина - во Христе и Христом, - так, чтобы с Апостолом говорить: “живу не к тому аз, но живет во мне Христос” (Гал. 2:20). Это христианское самосознание и чувство жизни Христовой, сознание усыновления Богу так было сильно во многих из первенствующих христиан, что на все вопросы мучителей они только отвечали: я раб Христов, я раба Христова.
Вот первая черта христианской нравственности или первое свойство лица, действующего по-христиански, - его христианское самосознание. С сознанием себя “рабом Христовым” христианин и подвизается в этой земной жизни.
С погашением указанного самосознания, действия христианина если и не становятся худыми, то теряют в большей или меньшей мере христианский характер и поступают в разряд общенравственных. Между тем, христианин есть лицо не только общенравственное, но нравственное по-христиански.
“Если таким образом, от такого самосознания получает свой характер вся деятельность христианина, то свет его должен гореть в душе его, не погасая, не умаляясь, а возрастая по самый конец жизни” (еп. Феофана).
Потому-то святитель Тихон Задонский вот какое правило написал для своей паствы: “краткое увещание, что всякому христианину от младенчества до смерти всегда в памяти содержать должно: помни 1) что при святом крещении чрез крестных отца и матерь ты отрекся от сатаны, и всех дел его, и всего служения его, и всей гордыни его, и сие учинил троекратным отречением; 2) отрекшись сатаны, ты троекратно же обещался служить Христу Сыну Божию, со Отцом и Святым Его Духом.” “Итак, ты на крещении в службу Христу записался и присягнул так, как и воины” и другие, поступая на службу, присягают (свт. Тихон Задонский. Творен, т. I, М., 1889, стр. 101 ).
Свободная самодеятельность или самоопределение (свобода)
Душа человеческая имеет три силы, три способности: ум, чувство и волю.
Воля составляет внутреннее начало наших действий. Под волей, в тесном смысле, разумеется способность души сознательно, обдуманно и свободно - по собственному выбору и решимости - определять себя к деятельности. То свойство души, по которому она может управлять своей волей, восставляет свободу человеческого духа (свящ. М. Менстров. Уроки по христианскому православному нравоучению, изд. 2-е исправл. СПб., 1914, стр. 12 ). Таким образом, свободаесть сила нравственного самоопределения нашей души, нашего “я,” удерживающая наши хотения и действия или усиливающая их, останавливающая нашу волю или возбуждающая ее к деятельности (проф. прот. Н. Стеллецкий. Опыт нравственного православного Богословия. Том I. Харьков, 1914, стр. 72, 74 ).
Свобода сообщает нравственный характер нашим поступкам. Она составляет необходимое условие нравственности. “Для нравственной жизни человека, - говорит известный педагог К. Ушинский, - свобода также необходима, как кислород для физической” (К. Ушинский. Человек, как предмет воспитания.” Изд. 4-е, - т.п. СПб., 1879, стр. 358. См. его же. Собрание соч. т. 9, изд. Акад. Педагог. Наук. М. 1950, стр. 484 ). Если нет свободы - нет и нравственности. Действие, совершаемое по принуждению и несвободно, не может иметь нравственной оценки.
Нравственная свобода. Различные ее состояния
После сказанного очевидно, что для человека, чтобы быть нравственным лицом, нравственной личностью - обязательно необходимо быть господином своего действия, распоряжаться ими по своему усмотрению, согласно определенной нравственной цели и нравственным требованиям, а не быть водимым течением внешних обстоятельств, или своих внутренних душевных движений.
Воля наша тогда свободна, когда она во всех своих действиях следует нравственному закону.
В свете нравственного закона в человеке свобода может быть в различных состояниях или видах.
Необходимо различать троякое состояние нравственной свободы человека: 1) свободу Формальную , или психологическую, 2) свободу Реальную или существенную и 3) свободу идеальную или Истинную (свободу духа).
Формальная свобода
Формальная свобода есть свобода выбора, т.е. способность человека добровольно направлять себя к деятельности в том или ином направлении: в направлении добра или зла, делать себя Божиим или рабом греха.
Священное Писание бытие формальной свободы в человеке предполагает как общеизвестный и несомненный факт. Свобода составляет существенную черту человеческой природы. Бог наделил свободой человека при самом его творении. Так, сотворив человека, Бог сказал ему: “от всякого райского древа ты вправе есть, от древа же познания добра и зла не вправе есть.” Еще яснее говорится об этом в книге Второзакония. “Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло... - заповеди Господа Бога твоего. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое” (Второзак. 30:15-19). “Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди” (Мф. 19:17), - говорит Господь богатому юноше. “Бог - говорит св. Иоанн Златоуст - насильно не влечет нас... Он дал нам власть избирать худое и доброе, чтобы мы были добры свободно. Душа, как царица над собою и свободная в своих действиях, не всегда покоряется Богу, а Господь не хочет насильно и против воли сделать душу добродетельною и святою. Ибо, где нет произволения, там нет и добродетели. Надобно убедить душу, чтобы она по своей воле сделалась доброю.”
Свобода выбора подтверждается и Самонаблюдением человека. Когда мы совершаем какое-либо действие, то чувствуем, что мы сами решились на это действие и совершаем его, - что ничто ни со вне, ни изнутри не принуждает нас к нему с неотвратимой необходимостью, что мы могли бы поступить и иначе, чем поступили. Таким образом, бытие свободы воли человека доказывается прежде всего самосознанием человека, его уверенностью в своей способности определять себя к деятельности. Каждый человек говорит о себе: я хочу, я не хочу, и сознает при этом, что он волен поступить так или иначе.
Второй факт, доказывающий свободу человеческой воли, это РАСКАЯНИЕ, а вместе с тем существующие во всех человеческих обществах наказания преступников. Если человек не волен совершать известное действие, если он не есть причина его, то зачем ему раскаиваться и за что наказывать его? Раскаяние есть сожаление о том, что я поступил так-то, а не иначе. Следовательно, оно есть невольное признание того, что я мог бы поступить и иначе.
Существуют неправильные мнения о свободе выбора. Высказывающие эти мнения, одни называются Детерминистами , другие - Индетерминистами.
1. Детерминисты (от латинского слова “детермино” - определяю, ограничиваю) отрицают наличие в человеке свободы выбора, а свидетельство человеческого сознания о том, что человек в своих действиях и поступках свободен, называют самообманом. Человеку, - говорят они, - только кажется, что он свободен; в действительности же его свобода - такая же, как свобода машины, которую заводят. Человек в своих решениях и действиях всегда определяется мотивами (побудительными причинами к действию). Им управляют мотивы. Эти мотивы даются ему или из ведшего мира, окружающей среды; или из влечений его собственной природы. И действует человек с неотвратимой необходимостью под влиянием более сильных мотивов. Поэтому представление, что человек мог в данном случае поступить иначе, чем поступил, - чистейшая иллюзия: что я сделал, то только я и мог сделать. С этой точки зрения человек рассматривается, как продукт среды и обстоятельств и даже как существо, не отвечающее за свои будто бы свободные действия.
Видными выразителями детерминизма являются голландский философ Спиноза (17 в.), и немецкий философ Шопенгауэр (19 в.). Так называемый богословский детерминизм высказывал блаж. Августин, его придерживаются протестанты и др. (бл. Августин в полемике с еретиком Пелагием высказал и развил следующие мысли: потомство падших прародителей представляют собою безразличную массу растления и погибели, потому что в падшем состоянии воля человека сделалась навсегда несвободною, могущею только грешить. И если бы все люди были предоставлены самим себе, то все одинаково подлежали бы вечному осуждению Божию. Но Бог, по неведомым для нас судьбам Своей правды, одних предоставляет собственной их участи, других предопределяет к спасению непреоборимой силой благодати (см. проф. Стеллецкий; Опыт нравственного православного Богослов. т. I, стр. 82-84 ).
Рассмотрим теперь, в чем неправы детерминисты. Несомненно, что у каждого человека есть определенное душевное настроение, душевный склад и предрасположение к тому или иному образу действования.
И это правильно, что человек может действовать не иначе, как по мотивам (по побуждениям). Но мотивы действуют на нашу волю не с неотразимой необходимостью, а имеют значение только побуждений к обнаружению воли . В силу свободы воли человек способен делать выбор между многими побуждениями, причем не всегда отдает предпочтение сильнейшему, предпочитая иногда менее сильные, но более законные.
В греховном состоянии человека самые сильные побуждения - чувственные и эгоистические, однако человек может возвышаться над ними, следуя побуждениям правды и любви. Следовательно, выбор между побуждениями вполне возможен для человека. И эта способность человека самому решать - какому из мотивов отдать предпочтение и есть формальная или психологическая свобода.
Наконец, теория детерминизма совершенно не согласна с Божественным Откровением. В Божественном Откровении всегда и настойчиво возвещается учение, что человек есть существо свободно-разумное, что он отвечает за свое поведение, что в его воле стать на путь добра или зла, получить или нет даруемое ему спасение. Детерминизм противоречит и общехристианскому опыту, который свидетельствует, что и для самой упорной во зле и порочности воли возможно обращение, поворот, когда человек в покаянии может совершенно порвать со своей прежней греховной жизнью.
2. Если детерминизм отрицает свободу воли в человеке, то ИНДЕТЕРМИНИЗМ, напротив, слишком преувеличивает эту свободу.
По учению индетерминистов воля совершенно независима от мотивов. Она индифферентно (безразлично) носится над всеми мотивами или побуждениями и во всякое время может с одинаковою легкостью следовать по своему желанию тому или другому мотиву. Например, злодей сразу может сделаться добрым человеком, лишь бы ему заблагорассудилось. Взгляд этот высказывали пелагиане.
Нетрудно видеть неправильность такого учения индетерминистов. Это учение противоречит опыту и опровергается на каждом шагу; о каждом известном нам человеке мы составляем определенное представление и предполагаем, что он всегда более или менее остается верным своим привычкам и своему характеру. Поэтому, например, в нужде мы не обратимся за помощью к скупому и жестокосердому, а обратимся к тому, кого считаем добрым и милостивым, помогающим нуждающимся. Или, намереваясь совершить какое-либо доброе дело, человек обычно обращается за содействием и советом к честному, добросердечному и добродетельному человеку, а не к тому, который поступает бессовестно и бесчестно; везде преследуя только свои личные интересы. Эти факты говорят о том, что у каждого человека есть определенный нравственный характер, определенные навыки в добре или зле, т.е. о том, что его воля привыкла действовать в определенном направлении, что она не носится безразлично над всеми побуждениями, а руководствуется мотивами определенной группы, т.е. выбирает мотивы.
Таким образом, наша свобода воли это не беспричинное хотение, а выбор между различными мотивами. И эта способность самоопределения, выбора того или другого мотива и решения -есть формальная (или психологическая) свобода.